Герман Фейн (Андреев)
«Люстрация: за и против»
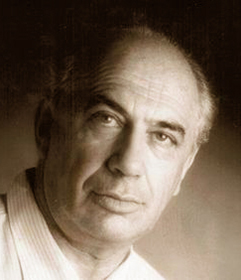
В странах, которые обрели демократию после падения авторитарных диктатур (Испания, Португалия, Чили, Аргентина), было совсем не трудно выяснить, кто был повинен в преступлениях, совершенных тираническими правителями: все они были известны и населению этих стран, и мировому сообществу. Круг преступников был очерчен достаточно чётко. Никому не приходит в голову вопрос о степени ответственности граждан за казни (подчас массовые), совершённые в период власти военных диктаторов.
Иное дело — режимы тоталитарные. Сразу после падения нацистской власти в Германии разгорелись страстные споры о коллективной ответственности немцев за гитлеровские преступления против человечности. Одни (прежде всего большинство немцев) энергично отвергали (и по сегодня отвергают) само понятие коллективной вины нации. Другие (главным образом евреи) утверждают, что столь кошмарных преступлений не могло бы совершиться, если бы всё немецкое население не принимало в них участия. Разумеется, никто, кроме нацистских фанатиков, не оспаривал необходимости наказать виновных — спор лишь о том, кого подвергать судебному преследованию.
Почти такая же проблематика возникла и в странах Восточной Европы после падения в них коммунистического варианта тоталитаризма.
Как решалась проблема розыска и наказания виновников преступлений против жителей в бывших так называемых социалистических странах, описала на основании своих долгих изысканий американская публицистка Тина Розенберг в одной своей книге.
Тина Розенберг так определяет суть различий между авторитарными режимами, один из которых она исследовала, находясь в Чили после перехода этой страны от правления пиночетовской хунты к демократии, и режимами тоталитарными — нацистским в Германии 30-40 годах, и коммунистическими — в странах Восточной и Центральной Европы: «Восточно-демократические диктатуры были преступными режимами, а латиноамериканские — режимами преступников».
Различие архиважное, как говаривал один известный российский политик.
Авторитарные диктаторы не определяли ни экономической, ни культурной, ни религиозной, ни этической структурализации общества. Расправившись с оппонентами подчас самым кровавым способом, они предоставляли своим подданным, оставшимся в живых и на свободе после установления их диктатуры, чуть ли не все права, кроме политических. В Чили это привело к расцвету либеральной (то есть свободной, не зависимой от власти) экономики и к росту благосостояния населения. Авторитарные режимы не только не втягивали массы в политические действа, но самым решительным образом пресекали такие попытки с их стороны. Иное дело — тоталитарные режимы: все они создавались по блатному принципу круговой поруки: каждый житель страны принуждался в той или иной степени участвовать в делах правящей партии.
И кого же наказывать за создание и функционирование бесчеловечных режимов, если подданные были одновременно и палачами, и жертвами? Тина Розенберг пишет: «Суть коммунизма и определяет невероятную сложность при поисках виновных. Каждый, кто страдал под этой диктатурой из-за ущерба окружающей среде, возникающего по вине не соблюдающих никаких норм выбросов промышленных предприятий, из-за социальных унижений, кто посылал своих детей в индоктринированные школы, кто стоял в бесконечных очередях и ежечасно боялся потерять свою свободу, был одновременно самой надёжной опорой этого режима, выполняя руководящие указания сверху, участвуя в демонстрациях 1 мая и 7 ноября, сотрудничая подчас совершенно добровольно с коммунистическими «органами безопасности». «А теперь, — добавляет она, — все эти люди, особенно в странах Восточной Европы, объявляют себя жертвами тоталитаризма».
Полемика о люстрации, о том, нужна ли она или нет, а если нужна, то как её осуществлять, не покидая правового поля, разделяет людей, размышляющих на тему наказания преступлений против человечности.
Тина Розенберг в своей объемистой книге рассматривает аргументы «за» и «против», не только предоставляя слово заинтересованным лицам, но выступая и как независимый участник полемики.
Она посетила три страны Восточной Европы, освободившихся от коммунизма и осуществлявших люстрацию — Чехословакию, Польшу, ГДР, точнее говоря, долго в них жила, ведя бесконечные беседы как с жертвами коммунистического произвола, так и с теми, кто осуществлял моральный и физический террор в этих странах.
Если в частях её книги, где речь идёт о Чехословакии и ГДР, читателю представлено множество действующих лиц, то глава о Польше почти целиком посвящена одному человеку в «дымчатых очках», последнему президенту коммунистической Польши генералу Войцеху Ярузельскому, который ввёл в стране военное положение для того, ЧТОБЫ…
Вот с этим «чтобы» и хочет разобраться американская исследовательница, ибо сам Ярузельский всегда утверждал, что совершил это, исходя из патриотических чувств, спасая Польшу от возможности вторжения советских войск, в то время как противники коммунизма видели в действиях Ярузельского попытку разгромить антикоммунистическую оппозицию, которая в то время была представлена прежде всего Независимым профсоюзом «Солидарность».
У Тины Розенберг есть не так уж часто встречаемый у журналистов дар расположить к себе собеседников так, что они охотно раскрывались перед ней, делясь и событиями из их личной жизни, и соображениями о своей роли в укреплении коммунистического режима или в противостоянии ему.
Исследовательница стремилась понять не только политические, а, может быть, прежде всего, психологические причины готовности масс сотрудничать с опасными для них самих правителями. Так, после бесед с пограничниками ГДР, которые отстреливали сограждан, пытавшихся бежать из «страны рабочих и крестьян», она задалась вопросом: «Как может человек научиться слушать свой внутренний голос, а не голос из громкоговорителя?». И как раз Ярузельский показался ей наиболее загадочным типом человека. «Советская власть разрушила его идиллическое детство мальчика из аристократической семьи. Она вырвала его и его семью из родной Польши и выслала в далёкую враждебную Сибирь, советские самолёты бомбили в 1939 году города Восточной Польши, всю свою жизнь Ярузельский, по его же признанию, видел непредсказуемость и беспощадность хозяев СССР. И, тем не менее, он всегда после сибирской ссылки верой и правдой служил даже не столько коммунизму, сколько советским вождям и подчас превосходил их своими абсурдными решениями (например, он запретил Варшавскому радио передавать норвежскую музыку после того, как норвежский Нобелевский комитет присудил Леху Валенсе премию мира)».
Ярузельский — лишь один, но наиболее наглядный пример иррациональности в действиях и мыслях масс восточноевропейских странах периода тоталитаризма. Лишь очень незначительное количество людей показались Тине Розенберг какими-то чудовищами. Она задаётся вопросом: «Каким образом добивается коммунизм того, что самые обыкновенные люди, даже подчас идеалисты, становятся участниками или же соучастниками страшных злодеяний?». Размышляя над этим вопросом, Тина Розенберг подводит читателей к выводу о невозможности реформировать коммунизм. Она с сочувствием цитирует правозащитницу из Восточной Германии Бербель Болей (Bärbel Bohley): «Когда я прочла моё досье в Министерстве государственной безопасности, я впервые по настоящему обрадовалась, что ГДР больше не существует. До этого я всегда верила, что систему можно реформировать».
Но и придя к такому заключению, неизбежно сталкиваешься с вопросом люстрации, очищения от коммунизма. Кого, собственно, очищать, если чуть ли не все жители коммунистических стран в той или иной форме с коммунистами сотрудничали? И можно ли разрешить самим коммунистам принимать участие в перестройке страны на демократический лад? Вот что говорит один из чешских радикальных сторонников люстрации: «Демократическое правительство, которое столь наивно, что предоставляет коммунистам все демократические права, роет себе яму».
Но как раз чешские люстраторы вроде бы нашли правовой путь наказаний строителей коммунизма в их стране. Сотрудники режима были разделены на четыре разряда — от активных участников преступлений до пассивно их допускавших. Но как только дело дошло до составления списков и распределения попавших в них по категориям, у комиссий по люстрации возникали подчас неразрешимые проблемы. Ну, вот хотя бы такая: сотрудники чехословацкой службы безопасности, как и в других коммунистических странах, часто заносили в досье гражданина ложные сведения о помощи, которую тот им оказывал.
Возник парадокс: в период правления коммунистов все знали, что Госбезопасности (ГБ) нельзя ни в чём доверять, а, открыв архивы коммунистических тайных полиций, самые рьяные антикоммунисты вдруг начинали верить всему, что находили в этих архивах о, подчас, мнимых секретных сотрудниках (сексотах).
Как-то вдруг забылось, что карательные органы в коммунистических странах были столь же бюрократическими и обязанными выполнять план, как и все другие учреждения. Один из польских люстраторов обнаружил, что акты польской ГБ каждый март указывали на значительный рост завербованных агентов, и иронически прокомментировал: «Это происходило вовсе не потому, что весной активизировались гормоны любви к системе, а просто потому, что офицер, ответственный за вербовку новых агентов, именно в марте отчитывался за свои успехи: по плану за год военного положения он должен был завербовать 25 тайных агентов, и, если их не хватало, он вписывал случайные фамилии именно в марте». Один чех, который попал в списки сексотов ГБ и должен давать за это ответ в комиссии по люстрации, выкрутился потому, что в досье было написано, что он органам пригодиться не может. Смеясь, он заметил: «Впервые в жизни я обрадовался, что кто-то сказал, что от меня нет никакой пользы».
Подчас они, например, министерство Госбезопасности ГДР, использовали очень хитрые приёмы, приводившие к тому, что человек, искренне полагавший, что он с органами в точном смысле этого слова не сотрудничал, попадал в акты этого учреждения как его сексот. Руководитель комиссии по раскрытию архивов министерства Госбезопасности ГДР в ФРГ, именем которого эта комиссия и названа, Йоахим Гаук, рассказывает: «Многие были убеждены, что они просто беседуют с офицером госбезопасности: ведь в самом этом контакте ничего плохого не было! Сотрудники Госбезопасности этим ловко пользовалось. «Мой дорогой господин пастор, — говорил офицер какому-нибудь священнику, — мы ведь оба хотим лучшего для страны, мы все работаем для мира во всём мире».
А сколько было наивных людей, которые оправдывали — более ли менее искренне — свои тайные беседы в органах госбезопасности тем, что они де рассказывали о диссидентских группах, раскрывали органам размеры недовольства системой в стране. Один из группы защитников окружающей среды, запрещенной в ГДР, систематически информировал сотрудников Госбезопасности о размерах экологических бедствий в стране, а заодно и о тех, кто боролся — естественно нелегально — с загрязнением природной среды. Среди этих последних была и его жена, которая, когда открывали архивы министерства Госбезопасности, пришла в ужас и покинула мужа. А он ведь действовал из самых лучших побуждений. И как быть с ним комиссии по люстрации? Тина Розенберг, типичный западный либерал, очень болезненно фиксирует внимание на тех случаях, в которых при осуществлении операций по люстрации нарушались права человека. Правомерно ли, например, было, фактически, разрушать жизнь чешского врача, который лишь вёл курсы по оказанию первой помощи в войсках органов госбезопасности, пойдя на это, чтобы с помощью ГБ заполучить дорогое американское оборудование для свой клиники лёгочных заболеваний?
В ГДР дело доносительства было организовано по-немецки основательно: все следили друг за другом, в результате чего тайная полиция знала о каждом гражданине страны чуть ли не всё: и в каком магазине госпожа Мюллер покупает колбасу, и каким стиральным порошком пользуется госпожа Шмидт, не говоря уж о том, кто что кому сказал. Кого судить? Как наказывать, по каким меркам?
И как раз жители Восточной Германии (хотя не только этой бывшей коммунистической страны) искренне верят, что системе верой и правдой служил кто-то другой, но не он и не его близкие.
Впрочем, у немцев уже был опыт переваливания вины на кого-то другого. При опросах общественного мнения после Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, 94% респондентов отвечали, что процесс, конечно, справедлив, однако большая часть опрошенных выражала убеждение, что, кроме высокопоставленных функционеров национал-социалистической партии и генералов, никто ни в чём не виноват.
Тина Розенберг выдвигает сомнительный довод о неправомерности суда по законам западных либеральных обществ над людьми, у которых совершенно иные представления о преступлении и наказании, чем те, которые господствуют в странах развитых демократий: ей никак не удавалось убедить бывших пограничников ГДР, что они совершали преступления, убивая так называемых беглецов из республики. До них просто не доходили никакие аргументы из области прав человека: они стреляли во врагов партии и народа, которые готовились совершить измену. Ей можно было бы возразить, сославшись на юридический принцип, что незнание закона не освобождает от наказания за его нарушение.
Но кажется действительно непробиваемым довод тех жителей ГДР, которых обвиняли в сотрудничестве с преступным государством, обращавших внимание на то, как, не подвергаясь никакой опасности, прочно защищённые своим положением, с Генеральным секретарём ЦК СЕПГ Эрихом Хонеккером и его присными весьма активно сотрудничали руководители демократической Западной Германии, которые вот теперь создают всякие комиссии по расследованию соучастия в преступлениях режима людей, постоянно находившихся под угрозой расправы. Некоторые граждане ГДР задают вопрос: «Почему я должен нести ответственность за сотрудничество, скажем, с Хоннекером, если его с помпой принимал у себя на даче один из руководителей западно-германской социал-демократии, и если с ним обнимались канцлеры Вилли Брандт и Гельмут Шмидт?»
Простой человек не решает общие политические проблемы, и он оценивает режим не по категориям морали, а с точки зрения своих личных выгод. Тину Розенберг поразило, с каким восторгом говорили ей простые поляки об их жизни в месяцы военного положения, введенного Ярузельским: магазины вдруг наполнились продуктами, улицы стали почти совсем безопасными для варшавян, по радио передавали лишь хорошую музыку. И когда американка напоминала им, что в это же время защитники простых людей, руководители и даже многие рядовые деятели «Солидарности» интернированы, что при введении военного положения проливалась кровь, собеседники её просто не понимали.
Очень важными кажутся наблюдения Тины Розенберг над особенностями поведения жителей разных восточно-европейских стран как в период коммунистической власти, так и после её падения, когда стало необходимым как то осознать роль каждого в поддержке тоталитарных режимов.
На проблему, которую немцы определяют как «преодоление прошлого», оказывают влияние, прежде всего, два обстоятельства: отношение нации к коммунизму и уровень развития её нравственности.
Так, словаки при начале люстрации были достаточно полно информированы об активном сотрудничестве Владимира Мечьяра с коммунистическими органами безопасности (он работал даже и на советский КГБ), однако они его выбрали в президенты, что было бы исключено, скажем, в Чехии или в Польше. Восточные немцы без особого энтузиазма участвуют в люстрации осуществляемой под руководством западных служб, ибо, как и после 1945 года, полагают, что в их стране осуществляется просто суд победителей. Но как раз в Германии люстрация проводится с наибольшим тактом. Если, например, в Чехословакии или Польше у разоблачаемого в соучастии в коммунистических преступлениях почти никаких шансов оправдаться и вновь включиться в нормальную жизнь не было, то орган люстрации, так называемого учреждение Гаука предоставляет возможность каждому из тех, кто сотрудничал с режимом, самому разобраться со своей совестью. Право принимать или не принимать на обычную работу бывшего сотрудника Госбезопасности предоставлено работодателю, которому учреждение Гаука передаёт досье на этого человека, причём исключив из него подробности. При вынесении суждения о так называемых неофициальных сотрудниках Госбезопасности учреждение Гаука принимает в расчёт и личные слабости человека и его семейные проблемы, и возможность просто фальсификации документов.
Такое различие форм люстрации объясняется тем грустным обстоятельством, что в Чехословакии и в Польше люстрацию проводили люди, которые и сами-то были воспитаны в коммунистической системе (люстрацию в Восточной Германии осуществляли люди, уже 50 лет жившие в условиях демократии и права). В первом посткоммунистическом парламенте Чехословакии подчас разыгрывались сцены, напоминавшие прежние партсобрания, во время которых у человека, вызванного на ковёр, требовали самого чистосердечного признания в антинародных поступках. Так, Иржи Цукал, бывший диссидент, которого председатель парламента публично объявил сотрудником коммунистической службы безопасности, разъяснил, что попал в досье ГБ лишь потому, что в молодости рассказывал приятелям о своих встречах с американскими студентами. В ответ на требование снять с него обвинение, чуть ли не все разгневанные парламентарии, среди которых было не так уж много таких же борцов против режима, как Цукал, покинули зал заседания.
Впрочем, с течением времени, приобретая опыт, чехословацкие люстраторы постоянно вносили коррективы в правила люстрации и её процесс.Показательно, что чем большее число людей в соответствующей стране участвовало в сопротивлении режиму, тем менее крикливыми были призывы к расправе над коммунистами. Таких призывов не было в Польше, где почти каждая семья имела «своего» диссидента — члена антикоммунистического профсоюза «Солидарность» и где верные дети католической Церкви никогда не идентифицировали себя с режимом. Более того, даже когда Ярузельский публично признал свою вину в преступлениях коммунистического режима, с ним стал вести беседы на всякие темы такой непримиримый антикоммунист, как Адам Михник. А самый последовательный борец против тоталитаризма в Чехословакии Вацлав Гавел, ставший позже президентом страны, заявил: «Мы все виноваты», — что, между прочим спровоцировало некоторых очень уж рьяных люстраторов требовать привлечения его к суду. («Сам признался!»)
Вообще кажется невозможным осуществить люстрацию без каких-либо нравственных потерь. Особенно представляется проблематичным осуждение лиц, не нарушавших законов коммунистических государств, не приемлемых для государств либеральных.
Тина Розенберг считает, что юридический принцип «незнание законов не освобождает от наказания за их нарушение», распространяется и на законы морали. Поэтому то она осуждает, скажем, пограничников ГДР не за то, что они нарушили какие-то юридические законы — они действовали в полном согласии с законами ГДР — а законы нравственные. А так как суд юридический не наказывает за преступления против нравственности, то и люстрация как правовой акт, по мнению либеральной американской исследовательницы, — дело весьма сомнительное. Такая позиция должна представляться слишком благодушной тем, с чьими родными и близкими расправлялись палачи из коммунистических органов безопасности.
Впрочем, Тина Розенберг признаёт возможность предавать суду коммунистических функционеров и их пособников, если они нарушали законы, существовавшие до прихода коммунистов к власти. Так, она считает оправданным осуждение главы министерства Госбезопасности ГДР не за преступления этой организации, действовавшей в полном согласии с существующими законами, а за то, что в начале 30 годов он убил полицейского, будучи тогда молодым коммунистом, то есть противником Веймарской демократии. (Тот, кто жил в коммунистической стране, знает, что сотрудники ГБ нарушали постоянно и неплохие законы своего государства, пусть и существовавшие только на бумаге). После суда над главарём Госбезопасности, генералом Эрихом Мильке, его поместили в ту же камеру, в которой он содержал во времена ГДР диссидентов, не прилагая никаких усилий для улучшения обстановки в этой и ей подобных тюрьмах. Вот он и спит сейчас на жёсткой кровати в тёмной и днём камере, с холодными сырыми полами, с грязной парашей в углу. Своего рода месть истории…
Пытаясь как-то понять (и невольно простить) некоторых очень уж убедительно оправдывающихся бывших сотрудников преступного режима, Тина Розенберг в некоторых местах книги всё же находит чёткие слова для оправдания люстрации. «Да, — пишет она, — закон о люстрации проблематичен, но такие люди, как Мечьяр, ещё более проблематичны».
Настаивая на законности люстрации, нужно учитывать, что ведь кроме национального права, есть и международное право, за нарушение которого вполне законно судить людей, и не нарушавших законов своей страны, если руководители их страны поставили свою подпись под международным законом.
Согласно международному праву, преступлениями являются
- геноцид,
- пытки,
- депортации,
- принуждение к рабству.
Но ведь правители послесталинского периода существования коммунистических государств к таким масштабным преступлениям не прибегали. Как же быть с их преступлениями, не записанными в международные законы? Особенно если руководители тоталитарного государства сами выступают с осуждением таких преступлений, которые названы в международных правовых актах. Так, один из таких правителей после уничтожения союзнической авиацией Дрездена и других немецких городов с праведным возмущением заявил: «Никакой военный закон не предусматривает, что солдат освобождается за свои преступления только потому, что он действовал по приказу командиров при том, что этот приказ находится в страшном противоречии с общечеловеческой моралью и международными правилами ведения войны». Ирония состоит в том, что имя этого оратора — Йозеф Геббельс.
Некоторые обличители государственных преступников подчас с большим осуждением относятся к тем, кто совершал преступления, чем к тем, кто отдавал преступные приказы. Такой, признаемся, несколько упрощающей точки зрения придерживался и Лев Толстой: он призывал, например, солдат не брать оружия и тогда-де войн не будет, а если люди соглашаются брать оружие и выполнять приказы правительства, то они сами и несут ответственность за страдания и свои, и тех, в кого они стреляют.
Так всё же — нужна ли люстрация — очищение, отстранение от какой-либо власти бывших функционеров преступных режимов?
Приведя всевозможные «за» и «против», Тина Розенберг в конце концов склоняется к убеждению в необходимости люстрации — но не как мести, а как формы того, что немцы называют «преодолением прошлого»: простого изучения истории преступлений недостаточно. Более того, и жители бывшей ГДР и русские прячутся в истории: изучили, всё, хватит вспоминать. Но не обработанное в глубинах совести, не требующее раскаяния изучение прошлого навсегда останется настоящим. Как говорит русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому оба глаза.
И не потому ли застопорилась русская антикоммунистическая революция, что в России решили отдать прошлое прошлому, а настоящее тем, кто в прошлых преступлениях прямо или косвенно повинен?
Отказ от люстрации под всякими более или менее благовидными предлогами привёл Россию к тому, что её коммунистическое прошлое во многих отношениях остаётся настоящим. Как образно выразился один тонкий российский публицист, неопытная российская демократия, выгнав коммунистическую партию в 1991 году из одной двери, тут же впустила её в другую. И прибавим: россияне ещё надеются на мирное сосуществование с коммунистами в деле укрепления демократии. Не имея на этот счёт никаких иллюзий и осуществив довольно жёсткую люстрацию, новые восточноевропейские демократии во всех отношениях — политическом, экономическом, культурном, нравственном — ушли далеко вперёд от России.
ISBN 978-5-905722-58-5